 Ранний опыт государственного строительства большевиков и Конституция РСФСР 1918 года
Ранний опыт государственного строительства большевиков и Конституция РСФСР 1918 года
 7
7
 25458
|
Официальные извинения
25458
|
Официальные извинения
 972
972
 106239
|
Становление корпоративизма в современной России. Угрозы и возможности
106239
|
Становление корпоративизма в современной России. Угрозы и возможности
 239
239
 85141
85141
Восток, Запад и славянский вопрос 116 116
 27893 27893
Утопии и прозрения Ф. И. Тютчева К 210-летию со дня рождения и 140-летию со дня смерти Славянский вопрос достаточно подробно рассматривался поэтом, мыслителем и дипломатом Ф. И. Тютчевым в той части его наследия, которая включает 20 стихотворений1; кроме того, ему посвящены три из семи тютчевских работ политического характера (трактатов и набросков, собранных в 3-м томе Полного собрания сочинений поэта и дипломата) и нескольких десятков писем (тома 4—6)2. Примечательно не только это, важно само ощущение значимости новых форм концентрирующейся вокруг этого вопроса политики; эти формы не могут в принципе исчезнуть и в самые сложные времена, а сейчас — в ходе глобализации и сопутствующих ей ожесточенных национальных столкновений — востребованы как никогда. Тютчев решал славянский вопрос в духе консервативной утопии, предполагая возможность единения западных и южных славян под властью православного царя. Уже в ходе его деятельности как дипломата было видно, что эти народы вряд ли удовлетворятся такой перспективой. Тем более что представители других направлений общественной мысли, например М. А. Бакунин, А. И. Герцен3, М. П. Драгоманов4, предлагали разумную альтернативу такой конструкции — федерацию славянских народов, устроенную на началах демократизма. Интересны ли его идеи, в меньшей мере реализовавшиеся, чем проекты А. И. Герцена и М. П. Драгоманова[1] сегодня? На первый взгляд — нет. А учитывая взаимные обиды Польши и России, непрекращающиеся ламентации более уже не существующей Чехословакии и ее оккупации в 1968 году, импульсивное непостоянство в отношениях с Болгарией, вечные взаимонепонимания в дружбе с Югославией (и в 1948-м, и в 1960-х, наконец, в 1999 году), проекты Тютчева предстают неразрешимыми, как квадратура круга: ведь близкие душе поэта и дипломата имперские идеалы практически похоронены. Однако обнаруживаются новые мыслепостроения и проблемы, требующие более значимого расширения умственных горизонтов, и прозрения Тютчева здесь оказываются нелишними. Прежде чем перейти к более подробному обсуждению места славянского вопроса во всем творчестве Тютчева, приведем стихотворение «Два единства», поскольку отраженные в нем идеи и идеалы крайне важны в контексте настоящего исследования: Из переполненной Господним гневом чаши Кровь льется через край, и Запад тонет в ней — Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши — Славянский мир, сомкнись тесней... «Единство, — возвестил оракул наших дней, — Быть может спаяно железом лишь и кровью...» Но мы попробуем спаять его любовью — А там увидим, что прочней... (II; 221)[2]. Стихотворение характеризуется поэтической мощью и пророческим пафосом, объясняющими многие процессы, свидетелем и участником которых являлся поэт. Написано оно (и опубликовано) в 1870 году по достаточно конкретному поводу — франко-прусской войне 1870—1871 годов; «оракулом» же предстает О. фон Бисмарк (1815—1898), с 1871-го — канцлер Германской империи. 1 октября 1870 года стихотворение было прочитано на празднестве в Алек-сандро-Невской лавре, устроенном Славянским благотворительным комитетом по случаю присоединения к православию 13 чехов.
Перечитывая его в ракурсе решения славянского вопроса, надо помнить, что западные славяне были поставлены в ситуацию выбора между ориентациями на мощную Германию, победившую в 1866 году Австрию, а в 1870-м Францию, и «сосредоточивавшейся» (по слову друга Тютчева канцлера А. Горчакова) Россией, возвращавшей свои позиции в Европе. Она по-новому — по сравнению с концом 1840-х годов — выстраивала отношения со славянскими народами, и Тютчев нашел единственно возможные убедительные слова для выражения этой линии. Вместо права сильного, провозглашенного Бисмарком, который не пренебрегал «железом и кровью», было провозглашено единство на взаимопонимании, и такого рода призыв вышел далеко за рамки конкретного исторического периода. Ресурс спаянности любовью кажется сегодня ничтожно малым. Но именно он востребован не только славянскими народами, которые продемонстрировали миру феномен ненасильственных революций. В конце концов мысли Тютчева и его антипода Герцена о том, что в единой Европе славянское единство может стать местом всеевропейского единения (в форме Соединенных Штатов Европы), оказались не столь уже архивными. Более того, ощущается потребность, рассматривая соответствующий опыт, ставить вопрос и о всечеловеческом единении перед лицом глобальных угроз[3]. Тютчев обладал системным видением политических реалий современного ему мира. Это позволило ему увидеть даже такие скрытые движения, как появление доктрины Монро «молитве магометан» в первой строфе (I; 71). «Олегов щит» — стихотворение мобилизующее (как и поэтические труды Пушкина, и более поздние мечтания славянофилов) на утверждение России в Константинополе. А сдерживающий этот порыв К. В. Нессельроде — личный враг и Пушкина, и Тютчева (поэт выступал против про-австрийского курса российской внешней политики канцлера, который поддерживался Николаем I), да еще и с подозрительной фамилией. Но его призыв не спешить водружать крест на храме Святой Софии осенью 1829 года (на совещании в присутствии царя), поскольку сохранение Турции более выгодно, чем вредно действительным интересам России, было здравым и одобренным свыше. Современные исследователи считают, что такая сдержанная позиция не предполагала уступки недоброжелателям России, а ориентировала на сохранение уже полученного и давала импульс для развития независимых государств на Балканах[4]. Античные мотивы в сочетании с политической злобой дня проявились во втором стихотворении «Как дочь родную на закланье...». Оно приурочено к взятию Варшавы в 1831 году (первая его публикация появилась только в 1879-м); в нем констатируется, что кровавой ценой Россия сохранит целостность и покой. При этом особо подчеркивается, что это — борьба не за «коран самодержавья», а стремление «Славян родные поколенья / Под знамя русское собрать» (I; 145). Примерно то же, тогда же и по тому же поводу — взятию Варшавы, вызвавшему призывы к вооруженному вмешательству в дела России во французском парламенте, — писал Пушкин в стихах «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Сопоставление идей и пафоса этих поэтических творений — отдельная задача; следует лишь заметить, что и Пушкин, и Тютчев выделяют мотив обособленности славянства, которое хотя и может вести «домашние споры» (Пушкин), но устремлено к единой «мете», то есть цели — единению (Тютчев). Поклонник античности в ранней поэзии, друг лучших умов Германии (поэта Гейне и философа Шеллинга), муж двух жен-немок, Тютчев, даже в отличие от И. Тургенева, был поистине русским европейцем, но в ярчайших проявлениях своего творчества силой мысли и воли он поднимает славянский вопрос и болеет за его решение всей душой. Причем в весьма широких контекстах — в этом плане примечательна перекличка двух упомянутых выше стихотворений: Тютчев видел, а лучше сказать — прозревал, что появление русских войск у стен Стамбула (Константинополя) с целью гарантий прав славянских народов на юге Европы вызовет реакцию отторжения Западом России у стен Варшавы. Стихотворение «К Ганке» появилось ровно десять лет спустя, его адресатом явился В. Ганка (1791—1861) — чешский филолог и общественный деятель, сторонник культурного сближения Чехии с Россией. Оно начинается риторически-вопросительным обращением: «Вековать ли нам в разлуке? / Не пора ль очнуться нам? / И простерть друг другу руки — / К нашим кровным и друзьям?..» (I; 188). Ранее были кровавые столкновения среди этих племен, не одно из них погибло или подчинилось чужим. Враг обозначается достаточно четко: «Иноверец, иноземец / Нас раздвинул, разломил — / Тех обезъязычил немец, / Этих — турок осрамил...». Тютчев с «пражских высот» рассматривает из зажженного Ганкой «маяка» всю «Славянскую Землю» — «От Невы до Черногорья, / От Карпатов за Урал» (Там же), слышна перекличка Варшавы, Киева, Москвы и Вышеграда о настоятельности их единения. В письме к Ганке от 16(28) апреля 1843 года еще раз прозвучал призыв действовать «на благо вашей родины и всего славянского мира» (III; 228). В следующем году Тютчев пишет еще одно письмо «От русского по прочтении отрывков из лекций г-на Мицкевича» (отправлено в Париж из Мюнхена 16(28) сентября 1842 года, но опубликовано польскими славистами лишь в 1979-м). Его косвенный адресат, А. Мицкевич, именуется «мужем примиряющей любви» без достаточных на то оснований; с начала 1840-х годов он читал лекции в Париже о силе славянских литератур, но уже тогда проникался настроениями польского мессианизма и прославлял римский католицизм — злейшего противника для Тютчева. «Мы чуем приближенье Света — / И вдохновенный твой Глагол, /Как вестник Нового завета, /Весь Мир Славянский обошел... » (I; 191). Конечно, и взаимная приязнь Мицкевича и Пушкина (второй еще в 1834 году, правда, утверждал, что общая мечта о времени, «когда народы, распри позабыв, / В великую семью соединятся», сменилась «голосом злобного поэта»), и внимание к польскому поэту со стороны русских могли бы образовать почву для общих устремлений. Тем не менее видение судеб славянского единства у польского поэта исключало ведущее место России в нем. Может, он и согласился бы со словами Тютчева «Воспрянь, разрозненное племя, / совокупись в один Народ — / Воспрянь — не Польша, не Россия — / Воспрянь, Славянская Семья!» (I; С. 191), но эту семью, по его убеждению, должен возглавлять Папа Римский. Поистине Тютчев читал лишь отрывки из лекций, причем по собственному выбору, в противном случае он едва ли одобрил ключевые идеи Мицкевича. Хронологически между двумя первыми и тремя следующими парами стихотворений по славянскому вопросу расположены три публицистические работы: письмо «Россия и Германия», адрестованное Г. Кольбу, редактору немецкой «Всеобщей газеты» и опубликованное на французском языке в виде брошюры в 1844 году (русский перевод — 1873-й); статья «Россия и революция», которая была продиктована Э. Ф. Тютчевой 12 апреля 1848 года, в 1849-м появилась на французском, а в 1873-м — на русском языке; не опубликованный политический трактат «Россия и Запад»[5]. В письме Г. Кольбу Тютчев особо подчеркивает, что Россия ведет свои «так называемые завоевания и насилия» естественным и законным образом. Вот и «например, Польша должна была погибнуть. Речь идет, конечно же, не о самобытной польской народности — упаси Бог, а о навязанных ей ложной цивилизации и фальшивой национальности» (III; 119). Высказывая эти суждения, Тютчев исходил из того, что присоединенная к России часть Польши развивала свою культуру, в то время как поляки отошедших к Австрии и Германии областей подвергались онемечиванию. По его логике, Россия способна обеспечить развитие Польши в духе православия, а ее независимость превратит это небольшое государство в яблоко раздора для европейских империй. Россия должна объединить в первую очередь славянские народы, сохраняющие православную веру, и тем самым, решив Восточный вопрос (прибив подобие Олегова щита к воротам Царьграда), выступить прямой наследницей Византийской империи. «В самом деле, — отмечает он, — остается только узнать, получит ли уже на три четверти сформировавшаяся Восточная Европа, эта подлинная держава Востока, для которой первая империя византийских кесарей, древних православных государей, служила лишь слабым, незавершенным наброском, свое последнее и крайне необходимое дополнение, получит ли она его благодаря естественному ходу событий или окажется вынужденной требовать его у судьбы силой оружия, рискуя ввергнуть мир в величайшие бедствия» (III; 119). Тем самым Россия предстает как побудитель объединения славянских народов — процесса, который должен лишь начаться с освобождения православных народов из-под власти Турции на юге Европы, закончится же он присоединением к Восточной империи западных славян. Как видно из первой пары его стихотворений, этот процесс двусторонен — как дву-стороння и реакция на него; отсюда постоянные его напоминания, что они встретят сопротивление со стороны объединившихся юга и запада. Об этом же говорится и практически во всей политической публицистике Тютчева. Нельзя с полной уверенностью сказать, были ли напрямую известны взгляды Тютчева (а в 1850 году в парижском журнале появился еще один его труд — статья «Папство и Римский вопрос») немецкому мыслителю Ф. Энгельсу. Но если сравнить положения Тютчева с его тезисами по славянскому вопросу, то трудно избавиться от ощущения, что они отражены в его работе «Революция и контрреволюция в Германии», части которой появлялись в американской газете «Нью-Йорк дейли трибюн» в 1851 — 1852 годах. Он выразил крайне негативное отношение к «той империи, которая, обладая двумя столицами, — Петербургом и Москвой — все еще не может обрести своего центра тяжести, пока "город царя" (Константинополь, по-русски — Царьград, царский город), который всякий русский крестьянин считает истинным центром своей религии и своей нации, не станет фактически резиденцией русского императора; той империи, которая ни разу не теряла своей территории, но всегда расширяла ее с каждой предпринятой войной»[6]. Конец данного пассажа прямо напоминает слова Тютчева о том, что Россия лишь приобретала новые земли без военного давления. А вот первая его часть как будто написана с оглядкой на стихи Тютчева о славянском море, которое должно охватить и Константинополь — равно как и славянские земли. В центре рассмотрения в статье «Россия и революция» находилась уже не Польша, а Чехия (Богемия). Революционная волна 1848 года уже докатилась до Австрии и Чехии: 13—14 марта произошло народное восстание в Вене, а ровно через два месяца после дня окончания статьи, 12 июня, оно началось в Праге и продлилось там пять дней (восстанию предшествовали рабочие и крестьянские волнения, которые Тютчев сравнивает с Жакерией). И в этих условиях особое выражение получил, по словам Тютчева, племенной вопрос, приносивший опаснейшее осложнение, в первую очередь для Австрии. «Как-то забыли, — пишет Тютчев, — что в самом сердце мечтающей об объединении Германии, в Богемской области и окрестных славянских землях живет шесть или семь миллионов людей, для которых в течение веков, из поколения в поколение, германец ни на мгновение не переставал восприниматься чем-то несравненно худшим, нежели чужеземец, одним словом, всегда остается Немцем...» (III; 152). Никто из австрийских славян не хотел мириться с национальным угнетением, но дальше всех пошли чехи, мечтая о возрождении средневекового Королевства св. Вацлава, в то же время, в 1848 году, в Праге состоялся Славянский съезд, продемонстрировавший, что панславистское движение не ограничивается литературным патриотизмом пражских ученых (в числе которых были лично знакомый Тютчеву В. Ганка, И. Добров-ский, Я. Коллар, П. Шафарик, Л. Штур, Ф. Челаковский и др.), а является отражением подлинной жизни народа. С одной стороны, эта позиция сближает Тютчева со славянофильством и панславизмом. Но все же он дистанцировался от классических славянофилов и в конце 1840-х годов, и в дальнейшем, что дало основание французскому литератору М. де-Во-гюэ именовать его «тестем славянофильской партии»[7]. Действительно, у Тютчева отсутствует, как считает В. А. Твардовская[8], ряд присущих славянофильству черт: вера в крестьянскую общину (разделяемая, кстати говоря, и Герценом); идея национальной обособленности России — многие из них не столько стремились в Царь-град, сколько сосредоточивались на отмене крепостного права в самой России; сущностная связь событий в Европе с жизнью в России — Тютчев в письме к Аксакову от 2 октября 1867 отстаивал ее высокую значимость, когда говорил: «вся Восточная, т. е. Русская Европа» (V; 275). «Все, — пишет Тютчев, — что еще сохраняется от истинно национального существования Богемии, заключено в ее гуситских верованиях, в постоянно живом протесте угнетенной славянской народности против захватов римской Церкви, а также против немецкого господства. Здесь-то и коренится связь, соединяющая ее со всем ее славным боевым прошлым, находится звено, которое свяжет однажды чеха из Богемии с его восточными собратьями» (III; 153). Гуситство здесь идентифицируется с православием, хотя больше оснований было бы сравнивать его с социализмом, проявившимся в революции. Такое сравнение было весьма далеко от реалий политической жизни тогдашней Чехии: идеологически Ф. Па-лацкий был австрославистом, допуская возможность национального развития Чехии в пределах Австрийской империи; И. Фрич разделял идею А. Герцена о демократической федерации славянских народов; а чешские приверженцы директора польской школы в Париже этнографа Ф. Духиньского (1817—1880) прислушивались к его русофобскому тезису о туранском происхождении великороссов; малороссы, по его убеждению, происходят от арийцев (см. его опус «Народы арийские и туранские» (1864)).
Пафос призывов Тютчева сводится к тому, что Россия спасает Запад от самого Запада, конкретизируя это на примере Австрии. Но ведь сама Австрия «выражала факт господства одного племени над другим, германского племени над славянским». В ходе революции она провозгласила равноправие для различных народностей, а это — отрицание принципа, который должен ее удерживать. Действительно, поскольку большинство в Австрии принадлежит славянам, поэтому и она должна стать славянской, что совершенно невозможно. Следовательно, нужно искать новые формы сосуществования этих начал без германского гнета. Он — «не только политическое притеснение, он во сто крат хуже. Ибо он проистекает из той мысли немца, что его господство над славянами является его естественным правом. Отсюда неразрешимое недоразумение и вечная ненависть» (III; 193). Только Россия как «целая половина европейского мира», состоящая из двух вещей: «славянское племя и Православная Империя» (III; 195), утверждает Тютчев, спасет Европу от революции, а славянство — от национального угнетения. И все же это не программа панславизма, в котором обвиняют Россию ее западные противники. Европейцы видят специфику панславизма, по мнению Тютчева, впавшего в революционную фразеологию, всего лишь в искаженном восприятии народности. Такой панславизм — маскарадный костюм для Революции, литературные измышления немецких идеологов, считает он. Панславизм в революционном обли-чии проговаривался и в выступлениях М. А. Бакунина в 1846—1848 годах. В «Воззвании к славянам» М. А. Бакунин предрекал скорое падение Николая I («Гольштейн-Готторпа на славянском троне») и пробуждение русского «народа-гиганта»; в дальнейшем будет разбито и рабство славянских народов; в итоге падет и все европейское рабство. «Высоко и прекрасно взойдет в Москве созвездие революции из моря и крови, и станет путеводной звездой для блага всего освобожденного человечества»[9]. Эта революционная утопия устрашает не в меньшей мере, чем имперская в варианте Тютчева. Оппоненты же того и другого — Маркс и Энгельс — считали, что все пройдет в обратном порядке: сначала восстанет Европа, она по свои правилам освободит славянство, часть которого можно мобилизовать (по примеру Наполеона) на борьбу и имперской Россией, угнетающей славянские народы. Может, поэтому для Тютчева Революция была абсолютным злом; он выщелачивал за революционными фразами имперские амбиции нового характера. «Действительный панславизм в массах. Он обнаруживается при встрече русского солдата с первым встречным славянским крестьянином, словаком, сербом, болгарином и т. д., даже мадьяром. Они все единодушны в своем отношении к немцу», — заключает он (III; 195). Что касается Империи, то надо признавать: Россия как империя гораздо более православная, чем славянская по своей сути. Были Ассирия, Персия, Македония, Рим, с Константина начинается пятая и окончательная христианская Империя, представляемая ее преемницей Россией. "Волим царя восточного православного", — говорили малороссы, и говорят все православные на Востоке, славяне и прочие. Империя едина: Православная Церковь — ее душа, славянское племя — ее тело. Если бы Россия не пришла к Империи, она не доросла бы до себя. Восточная Империя: это Россия в полном и окончательном виде» (III; 196). Другое название России — Греко-Славянская империя. В перспективе она стремится к объединению двух Церквей путем лишения Римского Папы светской власти, продолжает Тютчев, не замечая, что его политический проект принимает гротескные черты. И продолжает: «Итак, поглощение Австрии есть не только необходимое пополнение России как славянской Империи, но еще и подчинение ей Германии и Италии, двух стран Империи» (III; 199). Таков баланс сил между Россией и Западом, с учетом, что первая в нем явно доминирует и дирижирует концертом. Данная часть трактата не увидела света при жизни Тютчева, да он и не завершил ее — все же автор был и дипломатом. Оценки же опубликованных фрагментов постоянно менялись, и публицистика Тютчева всегда находилась в поле зрения тех, кто занимался проблемой «Россия — Запад». На фоне того ощущения гула революции, о котором писал его почитатель А. А. Блок, призывая: «слушайте революцию!», Тютчев мог бы добавить: и опасайтесь ее, ибо ее плоды отравлены. В полной мере разделять его убеждения вряд ли нужно, равно как и восторгаться словами его антиподов-марксистов о том, что революции — «праздник для угнетенных» и «локомотивы истории». Он писал К. Пфеффелю 15(27) марта 1848 года, что «революция, последнее слово ложной в своих основах цивилизации, которую нам хотелось бы считать болезнью роста, является на самом деле раковой опухолью» (IV; 442; примерно так же трактовал революцию и П. Струве, квалифицируя ее как реакцию). Конкретизируя эту мысль в письме Л. В. Тенгобарскому 3 декабря 1849 года, Тютчев замечает, что Австрия «обречена разжигать революционный дух в подвластных ей славянах — как любой акцией, так и реакцией» и что происходит «заражение славянских народов революционной идеей» (IV; 449). Если вернуться к политической лирике Тютчева, то его откликом на события, связанные с «успешным» подавлением революции в Европе, стало стихотворение, в котором решение славянского вопроса выглядит как своеобразное предисловие к утверждению мощи Российской империи, по его убеждению, единственно возможной в мире. «Русская география» была написана, когда русские войска вступили в Европу, но впервые опубликована в 1886 году, когда прервались русско-болгарские отношения — и в изложенной «географии» образовался пробел. Еще один — поражение в Крымской войне, воспринятое как личная трагедия не только Тютчевым: при всем своем антимилитаризме, Л. Толстой также считал его несчастьем для России. Это наиболее политически ангажированное и во многом одиозное стихотворение Тютчева, наполненное неуместной эйфорией как раз перед тем, как Россию ожидала Крымская война. Поскольку оно редко печатается даже в обширных изданиях стихотворений поэта, приведем его полностью: «Москва и Град Петров (Рим), и Константинов Град — / Вот царства Русского заветные Столицы... / Но где предел ему? и где его границы — / На север, на восток, на юг и на закат?.. / Грядущим временам судьбы их обличат... / Семь внутренних морей и семь великих рек... / От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, / От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная... / Вот царство Русское... и не прейдет вовек, / Как то провидел Дух, и Даниил предрек... » (I; 200). Россия здесь представлена не столько как утес, сколько как вулкан, медленно, но неотвратно захватывающий своей лавой все новые земли. И в этом плане стихотворение несло в себе мало подходившие для реальной политической жизни смыслы. В частности устремленность к Константинову Граду — Стамбулу, а то и к Нилу и Гангу. Как не без горечи отмечалось Бочаровым в рецензии на третий том сочинений Тютчева[10], русское воинство достигло берегов Царьграда в 1920 году, но вскоре отправилось на полуостров Галлиполи, где было полуинтернировано и гибло от голода. С этого времени на статус единственной империи (рейха) претендовала Германия, затем были две империи, одна из них, по слову Тютчева, «Красная», а к началу нового тысячелетия осталась одна. (И как любая другая империя она тоже постоянно делает шаги от великого до смешного: осуждает, например, экс-империю, используя имя российского адвоката, защищавшего интересы английского мошенника.) Разумных объяснений такого рода проектов просто нет, остается довериться Тютчеву, что подобного рода стихи (как он отмечал в письме к Самарину от 16 мая 1867 года) — всего лишь плоды «безделья» (VI; 230). Но такого рода «плоды» дорого обходились отечественной дипломатии, вынужденной опровергать вымыслы о Завещании Петра до Тютчева и десятки документов после него. Написанное его пером приходилось рубить очень тяжелым топором[11]. Парное к нему стихотворение «Пророчество» содержало указание и на фигуру властителя расширяющегося славянского мира. Раздался-де глас свыше, что «возобновленную Византию... осенит Христов алтарь». Стихотворение датировалось 1850 годом и публиковалось журналом «Современник» в 1854-м, но одного из героев пророчества — царя Николая I не вдохновили, но ввели в гнев заключительные его слова: «Пади пред ним, о царь России, — / И встань — как всеславянский царь!» (II; 14). То ли его не вдохновил призыв «пасть» — хотя бы перед алтарем, то ли он был большим политическим реалистом, чем поэт — и зорче видел трагический для России исход Крымской войны, то ли его не привлекал идеал «всеславянства» (не случайно Пушкин гораздо раньше констатировал: у нас единственный европеец — правительство). Но он повелел относительно двустишия: «Подобные фразы не допускать»[12]. Остается добавить, что не прошло и пяти лет, как в эпиграмме-эпитафии Тютчев охарактеризовал «всеславянского» властителя: «ты был не царь, а лицедей», а в письме к Эрн. Ф. Тютчевой от 17 сентября 1855 года он писал о «чудовищной тупости этого злосчастного человека» (V; 228) (до конца жизни личную неприязнь к Николаю I испытывал и Л. Толстой); такой перепад температур свойствен и другим его оценкам. И не случайно: царь считал идеи славянского единства вредными для России и даже революционными, ибо они противоречили принципу легитимизма. Но на слова о «всеславянском царе» своеобразно отреагировали даже в самой семье Тютчева. Эрн. Ф. Тютчева писала П. Вяземскому18(30) марта 1854 года, что эти слова «поразили и испугали всех. Антуанетта (дочь поэта Анна) заплакала от горя — она боится, что теперь славяне не поднимутся на борьбу»[13]. Что касается 1850 года, то в самом его конце Тютчев выразил афористически неразрешимость того, что можно назвать «германским вопросом», который удалось скорее разрубить уже после 1945 года, создав два (а вскоре три) государства: «вместе с Австрией неосуществимо германское единство, а без Австрии Германия перестает быть реальностью» (письмо к Пфеффелю 12(24) ноября 1850 года — см. V; 25). Завершая рассмотрение первой части творческого наследия Тютчева по славянскому вопросу, приведем его современную оценку, данную политологом В. Цимбурским. Он попытался — с достаточной корректностью и даже деликатностью — провести некую линию от взгляда Тютчева, что одним из пунктов «Русской географии» является река Ганг, до соответствующих заявлений революционных поэтов (погибший на фронте в 1942 году П. Д. Коган писал за два года до смерти: «Но мы еще дойдем до Ганга, / Но мы еще умрем в боях, / чтоб от Японии до Англии / Сияла Родина моя») и современных политиков о том, что именно на его берегах русские солдаты будут мыть сапоги. В своей статье В. Цимбурский отмечал, что к расшифровке его идей сегодня должны применяться методы «политологической герменевтики», поскольку оценочных суждений типа «консервативный утопист», «похититель Европы» (согласно П. Чаадаеву), «национальная Кассандра» здесь явно недостаточно[14]. Согласно Цимбурскому, «концепция Тютчева представляет по времени известную демаркацию российского панконтинентализма»[15]. В конце 1860-х годов поэт именовал Киев «центром и сердцем славянства»; вокруг него, казалось бы, оно и должно выстраиваться. Однако, по словам одного из собеседников поэта, его же охватывал «зуд перенесения столиц»[16] — и в качестве таковой в первую очередь выступал Константинополь (Стамбул)[17]. И все же Тютчев был дипломатом, причем в этом качестве европейцы слушали его очень внимательно. Потому он защищал интересы «России-1» со всей основательностью, «Россия-2» же была скорее предметом поэтических мечтаний. Остается добавить: хорошо, если бы они не выражались в стихах, в которых, согласно Цим-бурскому, Восточная Европа (впервые идентифицированная с Россией именно Тютчевым) «устами Тютчева "законная сестра Запада" говорит брату: "все не твое — мое, а твое — мое же"; раз православие — "единственно истинное христианство", значит весь мир христианский обязан будет стать Россией»[18]. Логика Тютчева, если ее немного спрямить, такова: Запад в кризисе, выход из него — Революция, но ведь она может трактоваться как самоубийство цивилизации. Российская империя поэтому спасает Запад ради самого Запада (нужно лишь добавить: что она и сделала в годы Второй мировой войны), но для этого она должна расшириться географически, в частности захватить Константинополь, чтобы оттуда бороться с римским папизмом и германской квазиимперией. Для этого она должна осуществить одновременно некий Drang nach Westen наряду с движением в противоположном направлении Drang nach Osten. «Весь его геополитический проект оказался попыткой отыскать для России "оправдание" за пределами ее индивидуальной истории», — заключает Цимбурский[19]. И даже за пределами ее пространства — отсюда поиски границ на Ганге, заявленные в агрессивно-неблагозвучном стихотворении «Русская география», написанном до Крымской катастрофы. Потрясение, испытанное Тютчевым после поражения в Крымской войне, заставило его на несколько лет отойти от внешнеполитических проблем в поэтических произведениях и политических трактатах. Однако в письмах он не упускал из поля зрения угроз России. Еще в начале 1854 года, когда военные действия шли на Крымском полуострове (и во многих других местах по периметру границ России) он писал жене (в письме от 24 января—18 февраля 1854 года): «Теперь, если бы Запад был единым, мы, я полагаю, погибли бы. Но их два: Красный и тот, которого он должен проглотить» (V; 160). Естественно, под первым понимается все та же недостаточно подавленная Революция. В письме к М. П. Погодину от 11 октября 1855 года утверждается: «Мое задушевное роковое убеждение о настоящем кризисе: дело идет не о России одной, а о целом племени» (V; 231) — естественно, речь идет о племени славянском. Эта мысль повторяется и подтверждается в письме К. Пфеффе-лю в январе 1856 года: «...отношение России к Австрии является не просто политическим маневром — это возобновление войны между двумя народами и двумя мирами. Ополчаясь против России в настоящем и будущем, Австрия на самом деле покушается на нечто гораздо более великое, более сильное, древнее и основательное, чем даже сама Россия» (V; 236). Итак, Англия и Франция отходят на второй план, главным врагом снова объявляется Австрия. Несмотря на чрезмерный оптимизм изложенного пророчества (но не прозрения), Тютчев предвидел Крымскую войну и трактовал ее как месть одних императоров (Великобритании и Франции) при недобросовестной поддержке других (Австрии) третьему (России) за подавление революции 1848 года, которая им же угрожала. Для него она — не просто беда, а обнажение судеб России. Боль за нее порождала крайности: Николай I подвергался особому презрению именно вследствие утерянных иллюзий по этому поводу. Одним из итогов осмысления Крымской войны было убеждение Тютчева, что у самой России «нет исторической жизни без воссоздания самостоятельности для всей славянской расы» (V; 230). Война — противостояние Наполеона III, на котором был неизбывный грех за развязывание Крымской войны, и пока что дружественного России, но не менее агрессивного Бисмарка. Но Тютчев видел глубже: для него и первый, и второй являлись предвестниками завоеваний уже нового ХХ века, без каких-либо идейных оправданий, но с опорой на беззастенчивую пропаганду. Наполеон — политик-демагог, Бисмарк — апологет крови. Тютчев предвидел, что в будущем тон будут задавать исторические деятели, соединяющие эти качества, — и не ошибся. Такого рода политики диктаторского типа заливали в ХХ веке землю в разное время и в разных местах кровью едва ли не по щиколотку, пренебрегая другими ресурсами — тем же взаимопониманием и любовью. А ведь относительно их можно сказать словами Священного Писания: «камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла» (Мат. 21:42)[20]. Однако как раз они, и в первую очередь Франция, побудили новую угрозу России — польское восстание 1863—1864 годов. Надежды Тютчева на примирение России и Польши были разбиты. В 1850-м он писал (стихотворение появилось в печати в 1868 году), излагая еще один вариант славянофильской утопии: «Тогда лишь в полном торжестве, / В славянской мировой громаде, / Строй вожделенный водворится, — / Как с Русью Польша помирится, — / А помирятся ж эти две, / Не в Петербурге, не в Москве, / А в Киеве и в Цареграде.» (II; 17). В 1863 году было написано второе стихотворение, тон которого был куда сдержаннее. Его вызвало совместное выступление Австрии, Англии и Франции на стороне восставшей Польши. (Надо заметить, еще в середине 1850-х годов поляки формировали в Турции свой легион для участия в боевых действиях против России.) Тютчев стремится убедить их представителей, что Россия выступает в интересах самой Польши как славянского и в потенции — православного государства, части великой империи и всеславянской державы. Для этого-то мы, русские, и «бьемся с мертвецами, / Воскресшими для новых похорон» (II; 121 ) — судя по всему, после похорон 1831 года. Пророческий пафос выражен словами «Нет, никогда так дерзко правду Божью / Людская кривда к бою не звала!..» (II; 121 ), хотя, как известно, борцов «за нашу и вашу свободу» поддерживали в России не только революционные демократы, не только умеренные круги, но и небольшие части властной элиты. Дипломату Тютчеву вряд ли стоило нагнетать антипольские, и антиевропейские, чувствования, громко говоря о том, что звучит «всемирный клич к неистовой борьбе, / Разврат умов и искаженье слова — / Все поднялось и все грозит тебе, / О край родной! — такого ополченья / Мир не видал с первоначальных дней. / Велико, знать, о Русь, твое значенье! / Мужайся, стой, крепись и одолей!» (II; 121). Роль империи как спасителя славянства здесь не проговаривается, но подразумевается. 1867 год — время появления крупного славянского цикла стихотворений в связи со Славянским съездом — встречей 81 представителя славянских народов, прибывших в апреле 1867 года на Всероссийскую этнографическую выставку, проходившую с 8 по 15 мая в Петербурге и с 16 по 27 мая в Москве. Опора на славян — предпосылка освобождения России от западного диктата после Крымской войны и одновременно обоснование нового шанса на всеславянскую империю (хотя и не с такими завышенными ожиданиями, как непосредственно перед этой войной). Это лейтмотив двух стихотворений под одинаковым названием «Славянам». (Надо заметить, что и его идейный оппонент А. Герцен в 1867 году допускал, что против национального угнетения тех же поляков могут выступать не только революционеры, но и русский царь[21]). Еще более чем за десять лет до них Тютчев в письме К. Пфеффелю в январе 1856 года подчеркивал, что Австрия — в предвкушении полного краха России после Крымской войны — «своей враждой к России поставила под вопрос независимость всего славянского племени» (V; 236). Ее ободряет в этом намерении Франция, но как раз она вытеснит Австрию из других имперских ее земель, по-своему поощряя «Drang nach Os-ten» — продвижение на восток. Все же Австрия рухнет под бременем этого антихристианского дела, «которое не под силу и всему объединенному Западу» (V; 237). Первое провозглашает приветствие всем славянским братьям «без изъятья» (хотя в конце один из отсутствующих народов (поляки) сравнивается с Иудой). Прибывшие — не гости, а свои; они больше дома, чем на родине своей; здесь чтится Славянство. «Хотя враждебною судьбиной / И были мы разлучены, / Но все же мы народ единый, / Единой матери сыны» (II; 176) — именно признание и поддержка этой истины не прощается России Западом. Подтверждение этого тезиса можно найти в речи К. Маркса на польском митинге 22 января 1867 года в Лондоне — примерно за полгода до Славянского съезда в Петербурге и Москве он вопрошал: «Уменьшилась ли опасность со стороны России? Нет... Ее методы, ее тактика, ее приемы могут меняться, но путеводная звезда этой политики, мировое господство, остается неизменной»[22]. Ему вторил в 1871 году Ф. Энгельс: «Общественное мнение в России, по существу, имеет ярко выраженный панславистский характер, а это значит, что оно настроено враждебно к трем крупным "угнетателям" славянской расы: немцам, венграм и туркам»[23]. В совместном труде Маркса и Энгельса «Альянс социальной демократии и Международное товарищество рабочих» (1873) отмечалось: «Панславизм может принимать различные оттенки, от панславизма Николая до панславизма Бакунина; но все они преследуют одну и ту же цель и все прекрасно согласуются между собой»[24]. Остается спросить: а как же классовая борьба? Она приложима только к Европе? Тютчев во время написания этой работы лежал на смертном одре; и все же борьба с его идеями продолжалась. Один из ее следов виден в работе Энгельса «Эмигрантская литература» (1874—1875), содержащей язвительную полемику с М. П. Погодиным, другом и соратником поэта. Энгельс отвергает его тезис относительно того, что «Польша, бывшая до сих пор червем, точащим Россию изнутри, должна стать ее правой рукой»[25]. Враги в стихотворении четко не маркированы, однако утверждается: «Смущает их, и до испугу, / Что вся славянская семья / В лицо и недругу и другу/Впервые скажет: — Это я! / При неотступном вспоминаньи / О длинной цепи злых обид / Славянское самосознанье, / Как Божья кара, их страшит!» (II; 177). Борются они с этой «карой», опираясь на некую «двойную правду» (на современном языке — двойные стандарты), забвение исторической памяти (о трагедиях на Косовом — Тютчев неправильно пишет «Косовом» — поле и Белой Горе), а также манипулируя расколами в славянской среде. Второе стихотворение конкретнее представляет одного из врагов объединенного славянства, а чтобы относительно этого не возникали никакие сомнения, предваряется эпиграфом: словами «Славян надо прижать к стенке» австрийского политика. Поэт удачно использовал метафору — если не метонимию — стены, подтвердив, что она велика и «упруга, / Хоть и гранитная скала, — / Шестую часть земного круга / Она давно уж обошла...» (II; 179). Эту стену не раз штурмовали, но безуспешно и с потерями для себя. «Так пусть же с бешеным напором / Теснят вас немцы и прижмут / К ее бойницам и затворам, — / Посмотрим, что они возьмут! / Как ни бесись вражда слепая, / Как ни грози вам буйство их — / Не выдаст вас стена родная, / Не оттолкнет она своих» (II; 180). Надо заметить, что символика стены, делившая мир на две части, имела гораздо более длительную перспективу и вряд ли завершилась с концом ХХ века. Остается добавить следующее: автограф стихотворения «Славянам» (1867 год; здесь Россия трактуется уже не как разливающаяся лава, захватывающая в первую очередь австрийских славян, а как стена, которая раздавит любого, кто посягнет на нее и ее славянских друзей), посланный в письме к тому же И. С. Аксакову, сопровождается словами: «Вот вам, любезнейший Иван Сергеич, окончательное издание этих довольно ничтожных стихов, уже, вероятно, сообщенных вам Ю. Ф. Самариным. Не смейтесь над этою ребячески-отеческою заботливостью рифмотворца об окончательном округлении своего пустозвонного безделья...» (III; 541). Хотелось бы эти слова отнести и к большинству политически ангажированных поэтических творений Тютчева, включая стихотворение «Русская география» (1848—1849). Действительно, и «Завещание Петра I», использованное для идеологического обоснования войны с Россией в 1812 году Наполеоном, и «Письмо Зиновьева», якобы адресованное британским коммунистам и послужившее основанием для антисоветской политики более ста лет спустя, признаются фальшивками. Но оно же, как говорится, написано пером (как те же призывы большевистских поэтов и их оппонентов все о том же Ганге...). Прижать славян к стене призывал не только австрийский политик. Тот же Ф. Энгельс в работе «Революция и контрреволюция в Германии» трактовал вытеснение славян от Эльбы на восток как следствие физической и интеллектуальной способности немецкой нации к покорению, поглощению и ассимиляции своих старинных восточных соседей — того, что приписывалось как раз России немецкими публицистами; не отставал от него в подобных трактовках и К. Маркс. Не очень лестные мнения о славянах содержались в Полном собрании сочинений классиков, но их, как говорится, в упор никто не замечал до конца 1980-х годов — зато потом только их и замечали. Однако данный сюжет наиболее полно был выявлен русским эсером В. М. Черновым в ходе Первой мировой войны. В архивах классиков антиславянских тезисов искать не надо — они все были уже тогда опубликованы. В. М. Чернов в своем трактате по этой проблеме достаточно четко определил, что Марксом и Энгельсом практически всегда защищалась политическая линия на подавление славян как «крестьянских наций» во имя «однобокого индустриального социализма»[26]. Это подавление осуществлялось в ходе Первой мировой войны с опорой на военную мощь трех империй — Германской, Австро-Венгерской и Турецкой, на что Россия ответила Революцией, свергнувшей все из них вовсе не по Марксу, хотя и во имя марксизма. Следует особо подчеркнуть, что суждения о сути противостояния немецкого и славянского начал приверженца монархии Тютчева и ее ниспровергателя В. М. Чернова во многом совпадают. Поразительно и другое: еще один ниспровергатель — В. И. Ленин также «восторгался его поэзией. совершенно точно давая отчет в его славянофильских убеждениях». Обычно дальше эта цитата — своеобразная охранная грамота для творчества поэта — не продолжается, а ведь там сказано не менее существенное: Ленин «говорил об его стихийном бунтарстве, которое предвкушало величайшие события, назревшие в то время в Западной Европе»[27]. Добавим и свое наблюдение: в «Тетрадях по империализму» — собранию материалов для книги «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916) — Ленин приводил, и довольно сочувственно, тезис из «России и революции» Тютчева, что Чехия будет свободной тогда, когда Галиция станет русской, и что австрийские славяне должны ждать освобождения именно от России[28]. Что же касается И. В. Сталина, то он не скрывал критического отношения к антирусским эскападам Фридриха (Фрица) Энгельса и Карла Маркса[29]. Критическое отношение к самому К. Марксу было зафиксировано в комментариях к опубликованной в «Вопросах истории» его работе[30].
Обращение к мыслям Тютчева по славянскому вопросу далеко не лишнее в XXI веке, поскольку он как политический мыслитель обладал системным видением реалий современного ему мира. В условиях глобализации возникают опасности для сохранения национальной идентичности всех, а не только славянских народов. И идея их единства, «спаянного любовью», особенно ярко выраженная Тютчевым, приобретает новые смыслы. Рассмотрение идейного наследия Тютчева по славянскому вопросу показывает, что именно эти слова довлеют над всеми его консервативными утопиями, а сегодня они выражают глубинные чаяния всех народов, отвечая запросам нового тысячелетия — если оно останется временем сохранения человечества и развития его лучших начал. Итак, что побуждает обращаться к прозрениям Тютчева, наиболее ярко выраженным в стихотворении «Два единства»? Ответ можно свести к парадоксальному (для исторического текста) заключению: запросу на новые формы политической регуляции современной жизни. Как бы ни наивно это выглядело, сегодня такие формы выступают как естественная сила, способная противостоять глобальным угрозам. И одну из наиболее жизнеспособных форм Тютчев видел в славянском единении, о котором он предусмотрительно написал: «.а мы попробуем спаять его любовью (курсив мой. — Э. З.)». Согласно Тютчеву, возможно единство в форме Всемирной монархии или Вселенской империи — на основе духовного начала и силы любви. Призвана осуществить его Россия. Но в стихотворении он ставит акцент на «мы», включая в него всех, не приемлющих завоеваний и порабощения. Стихотворение тем самым как бы надстраивается над геополитическими проектами раннего Тютчева, а его мощная объяснительная энергия помогает в анализе и поиске способов разрешения вечных вопросов и современного человечества. Поэтому едва ли стоит сверхпоспешно сдавать в архив идею славянского единства (как Рейган выбросил на свалку истории идею коммунизма). Не закончен поиск продуктивного союза восточнославянских государств, растет число вариантов европеизма, от которого не уйдут и южные славяне, а в варианте отношения к Евросоюзу проявляются и национально оформленные варианты евроскептицизма38. В этих условиях призывы Тютчева к подлинному единству народов перед лицом глобальных бед звучат особенно убедительно. Стихотворение «Два единства» открывает новые перспективы жизни народов: русского, всех славянских, а в XXI веке — всех народов мира. Альтернатива этому — всеуничтожающее «железо» и неостановимая «кровь». Это один из важнейших уроков, извлеченных из братских чувств представителей славянства, выявленных в творчестве Тютчева. ♦
комментарии - 116
A bit <a href="http://wyebtlhou.com">sureirspd</a> it seems to simple and yet useful. That insight solves the proembl. Thanks! http://oahfioqcdmc.com [url=http://uzptkeypogq.com]uzptkeypogq[/url] [link=http://zciwvhbft.com]zciwvhbft[/link] Kudos to you! I hadn't thouhgt of that! <a href="http://ngciwar.com">Callnig</a> all cars, calling all cars, we're ready to make a deal. спасибо за информацию. Вот мои комментарии http://istor-vestnik.org.ua/4011/ http://istor-vestnik.org.ua/4009/ Блог с женскими секс-историями Бесплатная эротика и секс фото галереи Бесплатные порно фото с ежедневным обновлением Анальный секс, фото галереи анала, секс фото Порно фото безмездно, эротические секс фото галереи Лечение софосбувир такси из некрасовка мебельный магазин воскресенск кухонный уголок суши и пицца в омске круглосуточно Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин [b]pokras7777[/b] [url=http://seoprofisional.ru/index.php?route=product/category&path=75][b]Аренда выделенных серверов по приемлимым ценам[/b][/url] Раскрутка сайта под ключ Перезвоните мне пожалуйста 8 (996) 762-22-97 Евгений. [url=https://mega-remont.pro/voronezh-restavratsiya-vann]Воронеж реставрация ванн[/url] stromectol for humans <a href=" https://stromectolgf.com/# ">stromectol for sale</a> Мой комментарий
|
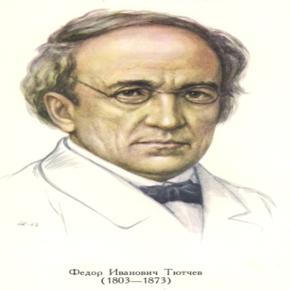

Thanks alot - your answer sloevd all my problems after several days struggling